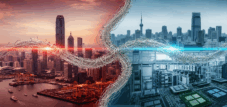Военачальники, золото и голод: кому на самом деле выгодна экономическая смерть Судана?
Предварительная версия Xpert
Выбор голоса 📢
Опубликовано: 3 ноября 2025 г. / Обновлено: 3 ноября 2025 г. – Автор: Konrad Wolfenstein

Военачальники, золото и голод: кому на самом деле выгоден экономический крах Судана? – Креативное изображение: Xpert.Digital
Инфляция 200%, половина экономики разрушена: жестокая реальность Судана, скрывающаяся за цифрами
От маяка надежды до «несостоявшегося государства»: трагическая история экономического краха Судана
Мысль о том, что суданские компании могут стремиться к экспансии на европейский рынок в условиях нынешней разрухи, противоречит суровой и трагической реальности. Любые разговоры о стратегиях выхода на рынок, деловом партнёрстве или «завоевании» немецких рынков не только преждевременны, но и являются фундаментальным заблуждением относительно катастрофической ситуации в стране, чьи экономические и социальные структуры систематически разрушаются. Судан — не сложный рынок, в нынешних условиях он практически перестал быть рынком.
Гражданская война между Суданскими вооружёнными силами (СВС) и военизированными Силами оперативной поддержки (СОП), бушующая с апреля 2023 года, привела к полному экономическому коллапсу. Цифры рисуют мрачную картину: валовой внутренний продукт упал на 42%, инфляция взлетела до 200%, а 5,2 миллиона рабочих мест – половина всех рабочих мест – были потеряны. Столица Хартум, некогда экономический центр страны, лежит в руинах после почти двух лет беспощадных боев.
Но за этими абстрактными цифрами кроется гуманитарная трагедия глобальных масштабов. Более 30 миллионов человек нуждаются в помощи, а 12,9 миллиона человек стали беженцами. Судан переживает крупнейший в мире кризис беженцев. На большей части страны свирепствует голод. Экономика не только ослаблена, но и превратилась в военную, где полевые командиры финансируют свою военную машину, разграбляя ресурсы, такие как золото, и подавляют любую гражданскую предпринимательскую деятельность.
Таким образом, эта статья не является руководством по выходу на невозможный рынок. Скорее, это суровый анализ экономического коллапса, выявляющий структурные причины, по которым Судан фактически перестал быть деловым партнёром. В ней рассматривается, как было упущено многообещающее будущее, как функционирует военная экономика и почему любая надежда на экономическое восстановление зависит от окончания конфликта и десятилетий тяжёлого восстановления.
От сути к домыслам: почему экономические реалии Судана не позволяют Европе расширяться
Вопрос о возможностях расширения деятельности суданских компаний на рынках Германии и Европы сталкивается с неприятной правдой: в настоящее время в Судане отсутствует прочная основа частного сектора, которая могла бы оправдать или обеспечить международную экспансию бизнеса. Гражданская война между суданскими вооружёнными силами и военизированными Силами оперативной поддержки, бушующая с апреля 2023 года, не только физически опустошила страну, но и уничтожила всю существующую бизнес-инфраструктуру. Экономическая ситуация не просто тяжёлая — она катастрофична до такой степени, что любые обсуждения стратегий выхода на европейский рынок становятся абсурдными.
Ужасающие цифры говорят сами за себя: валовой внутренний продукт Судана резко упал с 56,3 млрд долларов США в 2022 году до, по оценкам, 32,4 млрд долларов США к концу 2025 года, что означает совокупную потерю 42% от общего объёма производства. Уровень инфляции в 2024 году достиг астрономических 200%, при этом было потеряно 5,2 миллиона рабочих мест – половина всего трудоспособного населения. Это не спад, а полный экономический коллапс. Более 30 миллионов человек – более 60% населения – нуждаются в гуманитарной помощи, 12,9 миллиона человек стали беженцами, и по меньшей мере в 14 регионах наблюдается острый голод.
Разговоры о «суданских отраслях промышленности и компаниях», которые могли бы «расширить свой бизнес в Европе» в сложившихся обстоятельствах, в корне искажают реальность. Практически не осталось действующих суданских компаний, способных существовать дальше простого выживания. Промышленное производство упало на 70%, а сельскохозяйственное производство – на 49%. Даже немногие крупные корпорации, существовавшие до войны, такие как DAL Group, прекратили или переместили свою деятельность. Банковская инфраструктура разрушена, торговые пути перерезаны, а столица Хартум, некогда экономический центр страны, лежит в руинах.
Таким образом, в настоящем анализе рассматриваются не шансы иллюзорной экспансии Судана в Европу, а скорее структурные причины, по которым Судан фактически не может выступать в качестве экономического партнера в нынешних условиях, а также какие фундаментальные преобразования необходимы для того, чтобы когда-либо снова иметь возможность думать о международных деловых отношениях.
От маяка надежды до зоны военных действий: экономическое разрушение страны
Трагедия Судана заключается не только в нынешней катастрофе, но и в упущенных возможностях. Ещё в 2019 году, после свержения диктатора Омара аль-Башира, у международного сообщества начала зарождаться надежда. В июне 2020 года Германия организовала Конференцию по партнёрству с Суданом, на которой международные партнёры обязались выделить в общей сложности 1,8 млрд долларов США на поддержку процесса преобразований. В 2021 году Международный валютный фонд и Всемирный банк предоставили Судану списание долга в рамках инициативы HIPC, сократив его внешний долг с 56,6 млрд долларов США до примерно 6 млрд долларов США. Казалось, что Судан после десятилетий изоляции может стать стабильным партнёром.
Эти надежды были разрушены военным переворотом в октябре 2021 года, когда генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан захватил власть и сверг гражданское переходное правительство. Международная помощь была заморожена, а программы развития приостановлены. Но настоящая катастрофа началась в апреле 2023 года, когда борьба за власть между армией аль-Бурхана и Силами оперативной поддержки генерала Мохамеда Хамдана Дагало переросла в гражданскую войну.
Экономические последствия были разрушительными и беспрецедентными по своей скорости. Промышленное производство традиционно было сосредоточено в районе Большого Хартума — именно там, где бушевали самые ожесточённые бои. Заводы были разграблены, оборудование уничтожено или украдено, а производственные мощности разбомблены. Битва за Хартум длилась почти два года и считается одним из самых продолжительных и кровопролитных сражений в истории африканской столицы: только в столичном регионе погибло более 61 000 человек. Лишь к марту 2025 года армии удалось в значительной степени выбить силы СФР из Хартума, но к тому времени город уже представлял собой руины.
Сельское хозяйство, которое до войны обеспечивало около 35% ВВП и в котором было занято 80% рабочей силы, также понесло колоссальные потери. Производство зерна в 2024 году упало на 46% по сравнению с уровнем 2023 года и на 40% ниже среднего пятилетнего показателя. Многие фермеры не смогли возделывать свои поля, поскольку бежали или потому, что эти районы стали полем боя. Цены на основные продукты питания резко выросли: рис, фасоль и сахар стали недоступными в некоторых регионах, а цены на мясо выросли более чем вдвое.
Золотодобывающий сектор, обеспечивавший около 70% экспортных доходов, фактически криминализирован. Обе воюющие стороны — армия и Репортёры без границ — захватили контроль над золотыми приисками и используют полученные доходы для финансирования своих военных действий. По оценкам, от 80 до 85% суданского золота вывозится контрабандой за границу, в основном в Объединённые Арабские Эмираты. Официальный экспорт золота в ОАЭ в размере 750,8 млн долларов США в первой половине 2025 года отражает лишь малую часть фактического объёма торговли. Эта военная экономика препятствует упорядоченному экономическому развитию и превратила Судан в несостоявшееся государство, где верх взяли организованная преступность и полевые командиры.
Исторически сложившиеся германо-суданские экономические отношения были маргинальными ещё до войны. Объём двусторонней торговли в 2021 году составил всего 128 миллионов евро. Традиционный экспорт Судана в Германию – хлопок, гуммиарабик и кунжут – составлял лишь незначительную долю объёма немецкого импорта. Судан же, напротив, импортировал из Германии преимущественно машины, оборудование и готовую продукцию. С началом войны эта и без того скромная торговля практически прекратилась, а статистика Великобритании показывает, что даже торговля Великобритании с Суданом, пусть и на низком уровне, теперь почти полностью состоит из гуманитарных товаров.
Таким образом, исторические события демонстрируют закономерность упущенных возможностей: Судан, безусловно, обладал экономическим потенциалом после обретения независимости в 1956 году, но растратил его за десятилетия гражданской войны, неэффективного управления и международных санкций. Краткосрочный период надежд с 2019 по 2021 год был жестоко прерван возобновлением военного правления и войной. Текущая ситуация представляет собой исторически низкую точку, восстановление после которой — даже при самом оптимистичном сценарии — займёт десятилетия.
Анатомия краха: военная экономика и ее спекулянты
Экономический коллапс в Судане вызван специфическими механизмами, выходящими далеко за рамки обычных рецессий. В его основе лежит переход от рыночной экономики, пусть и хрупкой, к экономике военного времени, контролируемой двумя военными, чья единственная экономическая цель — финансирование своей военной машины.
Силы оперативной поддержки (RSF) под командованием генерала Дагало взяли под контроль прибыльные золотые прииски в Дарфуре и Северном Кордофане. Это военизированное формирование, произошедшее от печально известных бойцов «Джанджавид», контролирует обширные территории в западных золотодобывающих районах. По оценкам, только в 2024 году на подконтрольных RSF шахтах в Дарфуре было добыто золота на сумму 860 миллионов долларов США. Большая часть этого золота контрабандой вывозится в Объединённые Арабские Эмираты, которые в свою очередь поставляют оружие и боеприпасы – яркий пример ресурсного проклятия, подпитывающего вооружённые конфликты.
Вооружённые силы Судана, в свою очередь, контролируют стратегическую инфраструктуру, порты и государственные предприятия, если они ещё функционируют. Порт-Судан на Красном море, важнейший морской порт страны, служит перевалочным пунктом для экспорта нефти и золота, а также импорта оружия. Ни одна из сторон в войне не заинтересована в функционирующей гражданской экономике; это лишь поставит под угрозу их контроль над ресурсами и источниками доходов.
Для оставшегося гражданского населения и немногих действующих предприятий эта военная экономика фактически представляет собой экспроприацию. Международные организации сообщают о систематических грабежах с обеих сторон, вымогательстве, произвольных арестах и конфискации товаров и средств производства. Малые и средние предприятия, составляющие основу любой функционирующей экономики, не могут работать в таких условиях. Dal Group, один из крупнейших частных конгломератов Судана, работающий в сфере производства продуктов питания и других секторах, либо прекратил производство, либо переместил его в более безопасные места.
Макроэкономические показатели отражают этот институциональный коллапс. 200-процентная инфляция в 2024 году стала результатом сочетания печатания денег для финансирования войн, перебоев с импортом и обвала суданского фунта. Официальный обменный курс бессмыслен; на чёрном рынке предлагаются гораздо более низкие курсы. Это делает любые расчёты для бизнеса, ориентированного на импорт или экспорт, невозможными. Валюта больше не является средством сбережения, а лишь быстро обесценивающимся средством обмена.
Безработица достигла катастрофического уровня: потеряно 5,2 миллиона рабочих мест – примерно половина всех официальных рабочих мест. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в сфере услуг и промышленности, которые были сосредоточены в Хартуме и его окрестностях. Многие работники покинули страну или потеряли работу, на которую могли бы вернуться. Неформальная экономика, на которую приходилось более половины объёма производства ещё до войны, также в значительной степени развалилась, поскольку мобильность ограничена, а рынки перестали функционировать.
Банковская система – необходимое условие любой современной экономической деятельности – фактически рухнула. Банкоматы не работают, международные переводы практически невозможны, кредиты не выдаются. Даже простые деловые операции приходится совершать наличными, что вряд ли практично в условиях безудержной гиперинфляции и неопределенности. Международные санкции, включая эмбарго на поставки оружия, запреты на поездки и заморозку активов, еще больше осложняют любой трансграничный бизнес.
Торговый баланс выявляет структурный дисбаланс: в первой половине 2025 года Судан экспортировал преимущественно золото (750,8 млн долларов США в ОАЭ), живой скот (159,1 млн долларов США в Саудовскую Аравию) и кунжут (52,6 млн долларов США в Египет). Импорт состоял в основном из оборудования из Китая (656,5 млн долларов США), продуктов питания из Египта (470,7 млн долларов США) и химикатов из Индии (303,6 млн долларов США). Это свидетельствует о том, что даже в состоянии войны Судан экспортирует сырье и импортирует готовую продукцию — колониальная модель торговли, не дающая оснований для промышленного развития или экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.
Действующие лица этой системы чётко определены: военные и ополченцы контролируют прибыльные секторы, такие как добыча золота и нефти; международные контрабандные сети обеспечивают нелегальный экспорт; соседние государства, особенно ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия, получают прибыль, покупая дешёвое сырье и поставляя дорогое оружие. Гражданское общество и предприниматели в этом уравнении являются жертвами, а не действующими лицами. Нет никаких признаков предприимчивого среднего класса, способного завоевать международные рынки.
Руины вместо деловой среды: статус-кво в ноябре 2025 года
В ноябре 2025 года экономическая ситуация в Судане представляет собой гуманитарную и экономическую катастрофу исторических масштабов. Страна переживает крупнейший в мире кризис перемещения населения и один из самых страшных голодовок в новейшей истории.
Важнейшие количественные показатели рисуют мрачную картину: прогнозируется, что ВВП к 2025 году достигнет 32,4 млрд долларов США – на 42% ниже довоенного уровня 2022 года. Инфляция колеблется от 118 до 200%, уничтожая сбережения и делая невозможным какой-либо расчёт цен. Доход на душу населения упал с 1147 долларов США (2022 год) до оценочных 624 долларов США (2025 год). Это ставит Судан в ряд беднейших стран мира.
Гуманитарные масштабы поражают воображение: 30,4 миллиона человек – более половины от общей численности населения в 50 миллионов – нуждаются в гуманитарной помощи. Это крупнейший гуманитарный кризис в мире. 12,9 миллиона человек стали перемещенными лицами, включая 8,9 миллиона внутренне перемещенных лиц и 4 миллиона беженцев в соседних странах. Египет принял больше всего суданцев (по оценкам, 1,2 миллиона), за ним следуют Чад (1 миллион), Южный Судан (1 миллион) и другие соседние государства.
Продовольственная ситуация катастрофическая: 24,6 миллиона человек страдают от острой нехватки продовольствия, а 637 000 человек – самый высокий показатель в мире – сталкиваются с катастрофическим голодом. В августе 2024 года в лагере Замзам в Северном Дарфуре был официально объявлен голод – первый случай такого рода за многие годы. По меньшей мере 14 другим регионам угрожает острая угроза голода. Более трети детей страдают от острого недоедания, причём во многих районах этот показатель превышает 20-процентный порог, определяющий голод.
Инфраструктура разрушена на значительной части территории страны. В Хартуме, экономической и политической столице, где когда-то проживало более 6 миллионов человек, целые кварталы лежат в руинах. Жилые дома подверглись бомбардировкам, больницы разграблены, а школы превращены в военные базы. 31% городских домохозяйств были вынуждены переселиться. Дорожная сеть повреждена в результате боевых действий, а мосты разрушены или закрыты военными. Аэропорт Хартума был отбит армией лишь в конце марта 2025 года, но до сих пор не функционирует.
В большинстве городских центров электро- и водоснабжение перестало быть стабильным. Это не только нарушает повседневную жизнь, но и делает невозможным любое промышленное производство. Больницы вынуждены работать на аварийных генераторах, если вообще работают. Система здравоохранения развалена: многие медицинские учреждения закрыты, разграблены или разрушены. Лекарств не хватает. Эпидемии холеры и кори бушуют с 2024 года; к апрелю 2025 года было зарегистрировано почти 60 000 случаев заболевания холерой и более 1640 смертей.
Образовательная инфраструктура также находится в руинах. Школы и университеты закрыты с начала войны или переоборудованы под временные убежища для перемещенных лиц. Целое поколение детей и молодежи лишено возможности учиться. Это будет иметь долгосрочные последствия для развития человеческого капитала и затруднит экономическое восстановление.
Для бизнеса такое положение дел означает: отсутствие функционирующей деловой среды. Нет правовой определённости, нет надёжных институтов, нет выполнения контрактов. Даже в регионах, менее пострадавших от войны, таких как государство на Красном море, где расположен Порт-Судан, нормальная работа бизнеса невозможна. Несмотря на то, что портовый город находится под контролем армии и принял множество беженцев из Хартума, он страдает от перенаселённости, инфляции и постоянной нестабильности. Даже здесь стоимость жизни резко выросла: килограмм мяса стоит 26 000 суданских фунтов (43 доллара США), что примерно вдвое превышает довоенную цену.
Наиболее насущные проблемы можно свести к следующему: во-первых, немедленное обеспечение выживания миллионов людей, находящихся под угрозой голода, болезней и насилия. Во-вторых, прекращение боевых действий и устойчивое прекращение огня, признаков которого пока не видно. В-третьих, постепенное восстановление основных государственных функций и инфраструктуры. В-четвёртых, долгосрочная экономическая трансформация, которая означала бы переход от военной экономики и сырьевой зависимости к диверсифицированной, производительной экономической деятельности. Между текущей ситуацией и этой долгосрочной целью зияет пропасть, которую не сможет преодолеть ни одна маркетинговая концепция, какой бы амбициозной она ни была.
Наш глобальный отраслевой и экономический опыт в развитии бизнеса, продажах и маркетинге

Наша глобальная отраслевая и деловая экспертиза в области развития бизнеса, продаж и маркетинга - Изображение: Xpert.Digital
Отраслевые направления: B2B, цифровизация (от искусственного интеллекта до расширенной реальности), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность
Подробнее об этом здесь:
Тематический центр с идеями и опытом:
- Платформа знаний о мировой и региональной экономике, инновациях и отраслевых тенденциях
- Сбор анализов, импульсов и справочной информации из наших приоритетных направлений
- Место для получения экспертных знаний и информации о текущих событиях в бизнесе и технологиях
- Тематический центр для компаний, желающих узнать больше о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях
От гуммиарабика до золота: почему Судан терпит неудачу на европейском рынке
Иллюзия экспансии: почему суданские компании не могут прийти в Европу
Трезвый анализ того, какие суданские предприятия и компании могли бы стремиться расширить свой бизнес в Германию и Европу, приводит к однозначному ответу: таких нет. Представление о том, что суданские компании могли бы использовать Германию в качестве «стартовой площадки для завоевания немецких и европейских рынков» в нынешней ситуации, совершенно лишено фактической основы. Действующих суданских компаний с экспортным потенциалом не существует, и они не смогут выполнить сложные нормативные, логистические и финансовые требования для выхода на европейский рынок.
Рассмотрим наиболее теоретически интересные секторы. Гуммиарабик традиционно является высокопотенциальным экспортным продуктом. Судан производит примерно 70–80% мирового производства гуммиарабика, используемого в пищевой промышленности и производстве напитков. Однако с началом войны производство резко сократилось и находится под контролем враждующих фракций. Цепочки поставок нарушены, контроль качества прекращен, а переработка, если она вообще осуществляется, осуществляется в самых примитивных условиях. Выход на жестко регулируемый европейский рынок продуктов питания, требующий строгой сертификации и прослеживаемости, просто невозможен.
Аналогичная ситуация с кунжутом, где Судан исторически был одним из крупнейших экспортёров, обеспечивая 40% производства в Африке. Однако регионы выращивания кунжута расположены в зонах военных действий, урожай резко сократился, а тот небольшой экспорт, который всё же существует, идёт в Китай, Японию и соседние страны, а не в Европу. Создание стоимости ограничивается экспортом сырья; нет ни переработки, ни брендинга, ни дифференциации продукции. Суданской компании, желающей продавать кунжутную продукцию в Европе, придётся конкурировать с проверенными поставщиками из Индии, Мьянмы и Латинской Америки — безнадёжная задача для производителя, пострадавшего от войны, не имеющего капитала, технологий и доступа к рынкам.
Золотодобывающий сектор — единственный, который всё ещё генерирует значительные объёмы экспорта, но это происходит нелегально и используется для финансирования войн. Суданские торговцы золотом, желающие экспортировать его в Европу, немедленно столкнутся с международными санкциями и правилами борьбы с отмыванием денег. Кимберлийский процесс и аналогичные механизмы сертификации конфликтных минералов препятствуют любой торговле. Даже если бы экспорт «чистого» золота был возможен, конкуренция со стороны известных аффинажных компаний из Швейцарии, Германии и Великобритании была бы подавляющей.
Животноводство – ещё один традиционный сектор с теоретическим потенциалом. Судан обладает одним из крупнейших поголовий скота в Африке, и экспорт живых животных составляет значительную часть экспортной выручки страны, в основном в арабские страны. Однако экспорт живых животных в Европу строго регламентирован и вызывает всё больше споров из-за проблем с благополучием животных и ветеринарным состоянием. Даже если бы суданские экспортёры смогли соответствовать европейским стандартам, это был бы низкорентабельный бизнес со значительными логистическими трудностями. Производство переработанного мяса из Судана, которое позволило бы получать более высокую рентабельность, в настоящее время невозможно, поскольку перерабатывающая инфраструктура разрушена, а соблюдение санитарных норм невозможно.
Немногие оставшиеся крупные компании Судана, такие как Bank of Khartoum, Sudan Telecom и государственные нефтяные компании, если и работают, то только на внутреннем рынке и изо всех сил пытаются выжить. Этим компаниям не хватает ни ресурсов, ни стратегического подхода к международной экспансии. Большинство из них также принадлежат государству и подвергаются международным санкциям или, по крайней мере, усиленным проверкам со стороны западных банков.
Малые и средние предприятия (МСП), составляющие основу экономики и стимулирующие инновации в экспортной отрасли во многих развивающихся странах, в настоящее время существуют в Судане лишь в зачаточном состоянии. Во время войны появились сотни микропредприятий, производящих товары первой необходимости, такие как молочные продукты, упаковочные материалы и моющие средства. Однако эти предприятия ориентированы на местные рынки, часто используют примитивные технологии, обладают крайне ограниченными ресурсами и не имеют опыта экспорта или международного бизнеса. Сама мысль о том, что небольшой суданский производитель глиняной посуды или мыла сможет завоевать немецкий рынок, абсурдна.
Сравнение с успешными примерами африканской экспансии делает эту невозможность ещё более очевидной. Кенийские технологические стартапы, эфиопские экспортёры кофе и марокканские поставщики автомобилей добились успеха в функционирующих государствах с относительной политической стабильностью, развитой инфраструктурой и доступом к капиталу. Судан же не может предложить ничего подобного. Даже такие страны, как Южный Судан или Сомали, также охваченные конфликтами, имеют хоть какую-то стабильность в определённых районах и смогли сохранить зачаточные экономические структуры. Судан же находится в полном коллапсе.
Нормативные и практические препятствия для выхода суданских компаний на европейский рынок огромны. Правила ЕС по импорту требуют подтверждения происхождения, сертификатов качества, таможенного оформления и соответствия стандартам продукции. Немецкие деловые партнеры проводят комплексные проверки, поднимая вопросы о регистрации компании, финансовой отчетности, налоговых декларациях и репутации. Ни одна суданская компания в настоящее время не может выполнить ни одно из этих требований. Даже денежные переводы будут проблематичны, поскольку банковская система Судана неэффективна, а международные банки отклоняют транзакции из Судана из-за санкций и рисков отмывания денег.
Идея «сильного и специализированного немецкого партнёра в маркетинге, связях с общественностью и развитии бизнеса» не решает этих фундаментальных проблем. Маркетинг не может продать несуществующий продукт. Связи с общественностью не могут превратить страну, охваченную войной, в привлекательного делового партнёра. Развитие бизнеса не может построить деловые отношения там, где нет бизнеса. Уважающий себя немецкий поставщик услуг не рекомендовал бы сотрудничать с суданскими «партнёрами», поскольку репутационные риски, правовая неопределённость и практическая невозможность уничтожат любой потенциальный бизнес.
Сравнительный анализ: когда война разрушает экономику
Взгляд на другие страны, затронутые вооружёнными конфликтами или экономическими кризисами, подчёркивает как уникальный характер, так и трагизм ситуации в Судане. Сравнительный анализ выявляет условия, при которых возможно экономическое восстановление, и причины, по которым Судан в настоящее время не может им соответствовать.
Сирия пережила ещё более длительную и кровопролитную гражданскую войну, которая продолжается с 2011 года. Тем не менее, даже в Сирии на контролируемых правительством территориях сохранились зачаточные экономические структуры. Дамаск и другие города продолжают функционировать, пусть и в ограниченных масштабах. Сирийские экспортёры, в основном из диаспоры, поддерживают деловые связи, и сирийские товары – оливковое масло, текстиль, продукты питания – поступают на международные рынки, часто через третьи страны. Ключевое отличие: в Сирии есть дееспособное правительство, контролирующее территорию, и диаспора, обладающая капиталом и международными связями. У Судана нет ни того, ни другого в достаточной степени.
Украина предлагает иное сравнение: страна, находящаяся в состоянии войны, которая, тем не менее, пытается поддерживать экономические связи и привлекать международных инвесторов. Украинские компании продолжают экспортировать зерно, стальную продукцию и IT-услуги. На международных конференциях обсуждаются вопросы восстановления и мобилизуются миллиарды долларов помощи. Украина пользуется масштабной поддержкой Запада, имеет относительно развитую инфраструктуру (несмотря на военные разрушения), систему образования и функционирующую администрацию на значительной части территории страны. Более того, Украина борется с внешним агрессором, что мобилизует международную солидарность. Судан, с другой стороны, – это гражданская война, в которой обе стороны совершают военные преступления, а международное сочувствие ограничено.
Сомали, пожалуй, наиболее сопоставимый случай: страна, измученная десятилетиями гражданской войны и распадом государства. Тем не менее, даже в Сомали наблюдается скромное экономическое развитие в некоторых регионах, особенно в относительно стабильном Сомалиленде. Разведение скота, услуги денежных переводов и местная торговля функционируют. Сомалийские диаспоры в Европе и Северной Америке сильны и инвестируют в свою родину. Диаспора в Судане меньше и менее взаимосвязана, а конфликт более масштабен, что не оставляет безопасных субрегионов, где могла бы процветать экономическая деятельность.
Руанда после геноцида 1994 года является примером успешной трансформации после катастрофического насилия. В течение нескольких месяцев в стране было убито около миллиона человек. Тем не менее, страна добилась впечатляющего восстановления благодаря сильному (хотя и авторитарному) управлению, международной помощи, инвестициям в образование и инфраструктуру, а также целенаправленной политике примирения и экономического развития. В Судане отсутствуют все эти предпосылки: нет признанного правительства, обладающего полномочиями и легитимностью, международная помощь ограничена и часто блокируется, образование отсутствует, а примирение невозможно в условиях продолжающегося насилия.
Ирак после 2003 года предлагает другое сравнение: страна, охваченная войной, с разрушенной инфраструктурой, но с огромными запасами нефти, которые финансировали восстановление. Международные корпорации вернулись, привлеченные нефтяными и строительными контрактами. Ключевое отличие: у Ирака была функционирующая нефтяная промышленность и масштабная международная военная и развивающаяся помощь. Судан в значительной степени утратил свои нефтяные запасы с обретением независимости Южным Суданом в 2011 году; оставшаяся нефть эксплуатируется воюющими сторонами, а не используется для восстановления.
Йемен, подобно Судану, охвачен жестокой гражданской войной, демонстрируя опасность затяжной военной экономики. Там также различные группировки (хуситы, поддерживаемое Саудовской Аравией правительство) контролируют часть страны и финансируют себя за счёт экспорта сырья, контрабанды и внешней помощи. Экономика разрушена, население страдает от голода и болезней. Сравнение показывает, что без политического решения нет экономического будущего. Судан рискует стать «вторым Йеменом» — несостоявшимся государством с перманентной гражданской войной и непрекращающимся гуманитарным кризисом.
Анализ показывает, что экономическое восстановление после конфликта возможно, но требует определённых условий: дееспособного (пусть даже авторитарного) государства, контроля над доходами от продажи ресурсов для финансирования реконструкции, масштабной международной поддержки, образованного и дееспособного населения, а также минимального уровня безопасности и предсказуемости. Судан не соответствует ни одному из этих условий. Вместо этого страна сочетает в себе худшие черты: непрекращающуюся войну, раздробленность государственного управления, разграбление ресурсов воюющими сторонами, отсутствие международного приоритета, массовый отток образованного класса и полную незащищённость. Говорить о развитии бизнеса или расширении рынка в этом контексте не только нереалистично, но и цинично.
Неудобная правда: риски, зависимости и структурные искажения
Критическая оценка экономической ситуации в Судане приводит к нескольким неудобным истинам, которые часто игнорируются в эвфемистических рассуждениях о развитии.
Во-первых, военная экономика выгодна определённым субъектам. Генерал Дагало, лидер Репортёров без границ, считается одним из богатейших людей Судана, обладая состоянием, нажитым на торговле золотом и владении землёй. ОАЭ получают прибыль от дешёвого суданского золота и взамен продают дорогое оружие. Египетские торговцы эксплуатируют тяжёлое положение суданских беженцев. Полевые командиры в Дарфуре контролируют шахты и контрабандные маршруты. Эти субъекты не заинтересованы в мире и верховенстве закона, поскольку это поставит под угрозу их прибыли. Пока система стимулирования поощряет войну, она будет продолжаться. Это «ресурсное проклятие» в чистом виде: богатство ресурсами, особенно такими легко извлекаемыми и контрабандными товарами, как золото, делает войну прибыльной и увековечивает её.
Во-вторых, международное сообщество в значительной степени отказалось от поддержки Судана. В то время как Украина и Газа получают значительное международное внимание и помощь, Судан представляет собой «забытый конфликт». Причины этого многочисленны: геополитическая незначительность (Судан не имеет ни энергетической, ни стратегической значимости), усталость от конфликтов после десятилетий суданских кризисов, расистская иерархия в экономике международного внимания и сложность гражданской войны без чёткого разделения на «хорошие» и «плохие» стороны. Следствие: гуманитарная помощь серьёзно недофинансирована. В 2024 году Судан получил лишь около трети от требуемых 4,2 млрд долларов США. Помощь в целях развития фактически прекратилась. Это международное пренебрежение означает, что Судан не может рассчитывать на помощь в восстановлении в стиле «плана Маршалла», которая была предоставлена другим странам, пострадавшим от кризиса.
В-третьих, долгосрочные экологические и демографические последствия разрушительны. Миллионы детей не получают образования; целое поколение растёт в условиях насилия, голода и отчаяния. Травма широко распространена. В то же время окружающая среда и сельскохозяйственные ресурсы деградируют из-за чрезмерной эксплуатации, отсутствия технического обслуживания ирригационных систем и изменения климата. Опустынивание ускоряется. После окончания войны Судан останется с необразованным, травмированным населением и деградирующими природными ресурсами — вряд ли это хорошая основа для развития.
В-четвёртых: война усугубляет социальную раздробленность и этническое разделение. «Репортёры без границ» обвиняются в проведении этнических чисток в Дарфуре против неарабского населения. Армия без разбора бомбит гражданские районы. Обе стороны используют сексуальное насилие как орудие войны. Эти зверства оставляют глубокий раскол между общинами, который будет сохраняться на протяжении поколений.
Даже если будет достигнуто прекращение огня, остаётся вопрос: как столь глубоко разделённое общество может вернуться к мирному сосуществованию и экономическому сотрудничеству? Опыт Руанды, Боснии и других постконфликтных обществ показывает, что примирение возможно, но оно требует десятилетий и активных политических усилий, чего в Судане пока не предвидится.
Пятое: Зависимость от экспорта сырьевых товаров усугубляет отсталость. Структура экспорта Судана — золото, кунжут, гуммиарабик, скот — типична для страны, экспортирующей сырьевые товары, без индустриализации. Эти товары имеют низкую добавленную стоимость, нестабильные цены и создают мало рабочих мест. Они также уязвимы для контроля со стороны элиты и полевых командиров. Устойчивое экономическое развитие требует индустриализации, диверсификации и создания цепочек создания стоимости — всё это невозможно в раздираемом войной Судане. Война разрушила и без того слабую промышленную базу; восстановление займёт десятилетия.
Шестое: Действующие международные санкции затрудняют даже ведение бизнеса с благими намерениями. Санкции ООН, ЕС и США включают эмбарго на поставки оружия, запреты на поездки, заморозку активов отдельных лиц и ограничения на финансовые транзакции. Хотя официально эти санкции направлены только на конкретные секторы и отдельных лиц, фактически они оказывают сдерживающее воздействие на всю деловую активность. Банки и компании избегают Судана из-за опасений нарушений. Это означает, что даже если суданская компания захочет законно экспортировать товары, ей будет сложно найти международный банк, готовый обрабатывать транзакции, или логистического провайдера, готового перевозить товары.
Ожесточённые дебаты вращаются вокруг вопроса об ответственности и решении. Обязан ли Запад помогать Судану, или это «африканский» кризис, который должны решать сами африканцы? Стоит ли ужесточать санкции для давления на воюющие стороны или они будут препятствовать оказанию гуманитарной помощи? Следует ли вести переговоры с полевыми командирами для обеспечения доступа гуманитарных организаций или это легализует военных преступников? На эти вопросы нет простых ответов, и международное сообщество остаётся разобщённым и парализованным.
Противоречия в целях очевидны: немедленная гуманитарная помощь против долгосрочного государственного строительства; переговоры с воюющими сторонами против справедливости для пострадавших; акцент на городских центрах против сельских регионов; инвестиции в инфраструктуру против социальных программ. В нынешней военной ситуации выживание неизбежно выходит на первый план; стратегические вопросы развития — роскошь. Но без долгосрочной перспективы Судан останется в ловушке несостоявшегося государства.
Наш опыт в развитии бизнеса, продажах и маркетинге в ЕС и Германии
Отраслевые направления: B2B, цифровизация (от искусственного интеллекта до расширенной реальности), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность
Подробнее об этом здесь:
Тематический центр с идеями и опытом:
- Платформа знаний о мировой и региональной экономике, инновациях и отраслевых тенденциях
- Сбор анализов, импульсов и справочной информации из наших приоритетных направлений
- Место для получения экспертных знаний и информации о текущих событиях в бизнесе и технологиях
- Тематический центр для компаний, желающих узнать больше о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях
Гуманитарный кризис и экономика: какую роль может сыграть диаспора?
Между антиутопией и надеждой: возможные пути развития до 2035 года
Прогноз для Судана мрачный, но не безальтернативный. Возникают три сценария, рисующие совершенно разные варианты будущего.
Сценарий 1: Постоянное несостоявшееся состояние
В этом пессимистичном, но, к сожалению, реалистичном сценарии гражданская война затянется на годы, и ни одна из сторон не достигнет решающей военной победы. Судан раздробится на сферы влияния, контролируемые различными ополченцами, полевыми командирами и иностранными акторами. Военная экономика, основанная на золоте, контрабанде и внешней поддержке, укоренится. Гуманитарная катастрофа станет перманентной. Миллионы людей остаются в лагерях беженцев в соседних странах, которые становятся все более враждебными. Международное сообщество привыкает к кризису и еще больше сокращает свою и без того недостаточную помощь. Судан превращается во «вторую Сомали» или «Йемен» — перманентно несостоявшееся государство на обочине мирового сообщества. В этом сценарии любое экономическое развитие невозможно; страна остается зоной военных действий и гуманитарной катастрофой в обозримом будущем. Экспансия суданских компаний в Европу была бы столь же абсурдна, как и представление о сомалийских пиратах, открывающих бутики в Гамбурге.
Сценарий 2: Хрупкая стабилизация и медленная реконструкция
В этом умеренно оптимистичном сценарии в ближайшие годы будет достигнуто хрупкое перемирие, возможно, при посредничестве Африканского союза, ИГАД или международных держав. Воюющие стороны договариваются о разделении власти или создании федерации с автономными регионами. Под международным контролем начинается процесс восстановления, основанный на списании долга в рамках программы HIPC 2021 года. Международные банки развития и двусторонние доноры выделяют миллиарды долларов. Приоритет отдаётся восстановлению базовой инфраструктуры, учреждений здравоохранения и образования, а также сельского хозяйства.
При таком сценарии Судан может пережить умеренное восстановление к 2030–2035 годам. Модельные расчёты показывают, что восстановление производительности сельского хозяйства до довоенного уровня и инвестиции примерно 1 млрд долларов США в инфраструктуру могут сократить бедность на 1,9 млн человек. Экономика может расти на 3–5% в год, но, учитывая огромные потери, восстановление будет лишь медленным. Население останется преимущественно бедным, а Судан останется типичной наименее развитой страной (НРС), зависящей от экспорта сырьевых товаров и международной помощи.
В этом случае несколько суданских компаний, в основном в сфере сельскохозяйственного производства (гуммиарабик, кунжут) или в сфере услуг (например, стартапы, основанные диаспорой), могут заниматься скромным экспортом. Однако даже здесь это будут нишевые продукты, а не широкомасштабное экспортное наступление. Выход на европейский рынок будет сложным и потребует многолетней подготовки, сертификации и капитала. В лучшем случае, сертифицированная по принципам справедливой торговли продукция из Судана может появиться в специализированных магазинах, продвигаемая под лозунгом восстановления – подобно руандийскому кофе или боснийским ремесленным изделиям после конфликтов. О «завоевании» европейского рынка речи не идёт.
Сценарий 3: Трансформационное Возрождение
В этом оптимистичном, но крайне маловероятном сценарии война быстро заканчивается всеобъемлющим мирным соглашением, поддержанным широким движением гражданского общества. К власти приходит демократическое переходное правительство, включающее гражданское общество. Впечатлённое этой сменой курса, международное сообщество мобилизует массовую поддержку в духе «Плана Маршалла для Судана». Создаются комиссии по установлению истины и примирению по образцу руандийских или южноафриканских. Инвестиции поступают в образование, здравоохранение, возобновляемые источники энергии и цифровую инфраструктуру.
Судан использует свой огромный сельскохозяйственный потенциал – 85 миллионов гектаров пахотных земель, доступ к Нилу и благоприятный климат – и становится «житницей Восточной Африки». Добыча золота легализуется и регулируется, а доходы от неё поступают в государственный бюджет. Молодое, технически подкованное поколение создаёт стартапы, особенно в сфере финтеха, агротехнологий и возобновляемой энергетики. Суданская диаспора возвращается с капиталом и опытом. К 2035 году Судан станет страной со средним уровнем дохода, функционирующей демократией, диверсифицированной экономикой и растущим средним классом.
При таком сценарии суданские компании действительно могли бы выйти на международные рынки: производители продуктов питания, экспортирующие органическую продукцию в Европу; IT-компании, предоставляющие услуги международным клиентам; логистические компании, использующие стратегическое положение Судана между Африкой и Ближним Востоком. Однако даже в этом самом оптимистичном сценарии такое развитие займет 10–15 лет и потребует значительных предпосылок.
Сценарии для Судана: возможность развития или постоянный провал?
Реальность, вероятно, будет где-то посередине между сценариями 1 и 2: хрупкое перемирие после многих лет новой войны, за которым последует трудоёмкое и недостаточно финансируемое восстановление. Потенциальных последствий множество: климатические потрясения (засухи, наводнения) могут ещё больше подорвать и без того хрупкую продовольственную безопасность; региональные конфликты (например, возобновление гражданской войны в Южном Судане или нестабильность в Эфиопии) могут перекинуться на Судан; глобальные экономические кризисы могут привести к резкому падению цен на сырьевые товары и сокращению помощи в целях развития; технологические изменения (например, появление альтернатив гуммиарабику) могут опустошить экспортные рынки Судана.
Изменения в регулировании в ЕС также могут иметь последствия: более строгие правила в отношении конфликтных минералов, подтверждения происхождения и устойчивого развития ещё больше затруднят суданским экспортёрам выход на европейские рынки. В то же время программы ЕС по содействию развитию Африки, такие как инициатива «Глобальный шлюз», теоретически могут открыть новые возможности, если Судан выполнит минимальные политические и экономические стандарты.
Геополитическая ситуация также неопределенна. У Китая и России есть исторические интересы в Судане (нефть, горнодобывающая промышленность, доступ к портам на Красном море), но их готовность поддерживать страну, охваченную войной, ограничена. Государства Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия) являются частью проблемы (поставки оружия, контрабанда золота) и потенциальными партнерами по восстановлению. ЕС и США в значительной степени списали Судан со счетов, но могут вновь проявить интерес в случае политических перемен, не в последнюю очередь из-за необходимости контроля за миграцией.
Подводя итог, можно сказать, что Судану предстоит долгий и трудный путь. В лучшем случае — при хрупком мире и международной реконструкции — страна добьётся скромного прогресса к 2035 году и останется развивающейся страной с низким уровнем дохода. В худшем — при продолжении гражданской войны — Судан навсегда превратится в несостоявшееся государство. Ни в одном реалистичном сценарии суданские компании не смогут существенно завоевать европейские рынки или использовать Германию в качестве «стартовой площадки» в течение следующих десяти лет. Идея остаётся тем, чем она есть: иллюзией, далёкой от какой-либо экономической реальности.
Горький вывод: предпринимателям тут не место
Итоговый анализ должен быть отрезвляющим: Судан в его нынешнем состоянии не является местом для предпринимательских амбиций, не говоря уже о международной экспансии. Комплексный анализ приводит к нескольким ключевым выводам, актуальным для лиц, принимающих политические решения, экономических субъектов, а также для суданской диаспоры.
Во-первых: экономика Судана в настоящее время не существует как функционирующая система. То, что происходит в Судане, — это не экономика в современном понимании этого слова — с рынками, институтами, правовой определённостью и разделением труда, — а военная экономика, в которой военные разграбляют ресурсы, население борется за выживание, а вся производственная деятельность сведена к минимуму. Говорить о «развитии рынка» или «расширении» с этой точки зрения — значит в корне неверно понимать основы экономической деятельности.
Во-вторых, вопрос о возможном расширении суданской промышленности в Европу некорректен. Он предполагает то, чего не существует: функционирующие суданские компании с производственными мощностями, экспортным потенциалом и стратегической деловой хваткой. Реальность такова, что немногие выжившие компании борются за выживание. Новые микропредприятия, возникшие во время войны, обслуживают базовые местные потребности в самых примитивных условиях. Ни у тех, ни у других нет ресурсов, капитала или ноу-хау для международного бизнеса.
В-третьих, даже в теоретически экспортоспособных секторах — гуммиарабике, кунжуте, золоте, животноводстве — структурные препятствия препятствуют серьёзному экспортному наступлению. К ним относятся: потеря контроля над производственными территориями из-за военных действий, нарушение цепочек поставок и логистики, снижение качества и отсутствие сертификации, международные санкции и риски несоблюдения требований, гиперинфляция и девальвация валюты, банковские крахи и невозможность международных платежей, а также репутационный ущерб, связанный с войной и конфликтными минералами. Эти препятствия невозможно преодолеть с помощью маркетинга или развития бизнеса; это фундаментальные, системные проблемы, которые можно решить только в условиях мира, восстановления государства и многолетнего институционального развития.
В-четвёртых: роль «немецкого партнёра в маркетинге, связях с общественностью и развитии бизнеса» будет, скорее, ролью консультанта по вопросам реальности. Уважаемый немецкий поставщик услуг должен будет объяснить суданским потенциальным клиентам, что экспансия в Европу невозможна в нынешних условиях и что все ресурсы следует направить на выживание, гуманитарную помощь и долгосрочную подготовку к восстановлению. Маркетинг не может создавать продукты, которых не существует. PR не может отполировать имидж, основательно пострадавший от войны, голода и зверств. Развитие бизнеса не может заключать сделки там, где для них нет оснований.
Пятое: Долгосрочные последствия распада Судана выходят за рамки самого Судана. Конфликт, в результате которого 12,9 миллиона беженцев и внутренне перемещенных лиц оказались в числе беженцев, дестабилизирует весь регион – Египет, Чад, Южный Судан и Эфиопия буквально захлестнуты потоком суданцев. Голод нанесет долгосрочный ущерб здоровью и развитию миллионов детей. Распад Судана затрудняет региональную экономическую интеграцию, например, через Африканскую континентальную зону свободной торговли (АфКЗСТ). Судан – это не просто национальное бедствие, а региональная катастрофа с глобальными последствиями (миграция, экстремизм, гуманитарные последствия).
Шестое: Стратегические последствия для различных субъектов очевидны. Для европейских и немецких компаний: Судан – это не рынок. Там нечего покупать или продавать, что было бы выгодно. Взаимодействие должно быть исключительно гуманитарным или – для строительных компаний и специалистов по инфраструктуре – направленным на долгосрочное восстановление после войны, аналогично тому, как компании позиционируют себя в отношении восстановления Украины. Для лиц, принимающих политические решения в Германии и ЕС: Судану нужно не содействие торговле, а посредничество в урегулировании конфликтов, гуманитарная помощь и долгосрочная стратегия развития. Действующие санкции должны оставаться целенаправленными и воздействовать на полевых командиров, не препятствуя при этом оказанию гуманитарной помощи. Для международных инвесторов: Судан – страна, куда не стоит вкладываться в обозримом будущем. Политический риск максимален, верховенство закона отсутствует, а экспроприация и насилие всегда возможны. Для суданской диаспоры: взаимодействие важно для долгосрочного восстановления, но в реалистичных условиях. Инвестиции диаспоры должны быть направлены на образование, здравоохранение и гражданское общество, а не на краткосрочные коммерческие сделки.
Седьмое: в исходном вопросе содержится горькая ирония. Идея о том, что суданские компании могут «завоевать» Европу, переворачивает реальную динамику власти. Исторически европейские колониальные державы — Великобритания и Франция — эксплуатировали Африку и доминировали в ней. Даже сегодня сырьевые ресурсы текут из Африки в Европу, а готовые товары и капитал — в противоположном направлении, что является структурным неравенством, которое не уменьшается, а усугубляется. Судан — крайний пример страны, находящейся на самом дне этой иерархии: бедной, раздираемой войнами, зависимой от ресурсов, лишенной технологических возможностей и институционального потенциала. Представление о том, что такие страны могут «завоевать» развитые европейские рынки, полностью игнорирует эти структурные реалии.
Таким образом, окончательная оценка такова: Судан — это не партнёр для расширения бизнеса, а гуманитарная чрезвычайная ситуация исторического масштаба. Приоритетом должно быть прекращение войны, облегчение человеческих страданий и построение устойчивого государства. Только после выполнения этих фундаментальных условий — а это займёт в лучшем случае десятилетия — можно будет содержательно решать вопросы экономического развития, экспорта и международной интеграции. До тех пор любые разговоры о выходе Судана на европейский рынок остаются не только нереалистичными, но и циничными в свете неизмеримых страданий суданского народа.
Стратегическая рекомендация для всех вовлеченных сторон ясна: сохраняйте реалистичный взгляд, не сейте ложных надежд, ставьте гуманитарные приоритеты и готовьтесь к долгому, трудному пути восстановления, но не пускайтесь в деловые авантюры в стране, которая в настоящее время существует только как зона военных действий.
Консультации - Планирование - реализация
Буду рад стать вашим личным консультантом.
связаться со мной под Wolfenstein ∂ xpert.Digital
позвоните мне под +49 89 674 804 (Мюнхен)